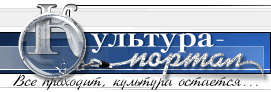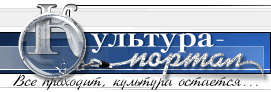|
 |
| На выставке |
2003 год Государственный исторический музей завершил открытием выставки "Русский исторический портрет. Эпоха парсуны". Как ни удивительно, в ГИМе, располагающем большими фондами по этой теме, подобная выставка проводится впервые. Помимо экспонатов из Исторического музея, выставка показывает произведения из Русского музея, историко-архитектурного и художественного музея "Новый Иерусалим", музеев Кремля, периферийных музейных собраний, Датского национального музея, Государственного музея изобразительных искусств в Копенгагене и других собраний - иконы, парсуны, шитье, гравюры, фрески, книги, произведения декоративно-прикладного искусства.
Экспозицию открывают произведения Симона Ушакова, Карпа Золотарева и других мастеров Оружейной палаты последней трети XVII века, когда иконопись была насквозь пропитана духом портретности, требованием схожести, истинности и близости к первообразу. Это иконные образы, написанные в соответствии со стремлением художников к "живству", а также образы, в которых угадываются реальные исторические персонажи. Например, в чертах Иосифа Прекрасного в иконе "Праотцы Иаков и Иосиф Прекрасный" кисти И. Рефусицкого ясно читаются черты молодого Петра I. А в лике царя Соломона в иконе, написанной Карпом Золотаревым, исследователи видят сходство с царевной Софьей.
Другой этап развития портрета представлен на выставке иконописным портретом, чаще всего выполнявшим функцию надгробного портрета и к началу XVIII века, в связи с окончательным разделением живописи на иконописную и светскую, прекратившим свое существование. Написанные с помощью традиционных иконописных приемов, эти портреты достаточно реалистично представляют своих моделей.
Рядом с хрестоматийными памятниками - портретами М.В. Скопина-Шуйского, Федора Алексеевича - демонстрируется портрет Ивана Грозного из Датского национального музея. Специалисты еще не скоро придут к согласию по поводу времени создания этого портрета. Датские исследователи датируют его 1560 - 1630 годами. Одни отечественные ученые считают, что портрет был написан около 1684 года. Другие же видят в разделке волос и бороды Грозного орнаментальность модерна и предполагают, что портрет был написан в начале XX века. На обороте доски есть латинская надпись, свидетельствующая, что портрет был подарен в 1677 году царем Федором Алексеевичем некоему Гебелю. Действительно, в 1676 - 1677 годах в Москву был прислан для переговоров с царем датский чрезвычайный посол Фридрих фон Гебель, который, по-видимому, и вывез портрет в Данию. Но это свидетельство не облегчает задачи выяснения времени создания произведения, а вызывает еще большее количество вопросов. Первым напрашивается следующий - зачем царю из рода Романовых дарить представителю иностранного государства портрет уже умершего государя, тем более принадлежащего к другому роду - Рюриковичей? Тем не менее хорошо уже то, что впервые портрет, вокруг которого идет долгая полемика, можно посмотреть вживую. До этого специалисты, кроме тех, кто мог увидеть памятник в Дании, судили о нем лишь по репродукциям.
Термин "парсуна" возник лишь в XIX веке. В XVII же веке портреты назывались "персона". Парсуна, которая уже и по концепции принадлежит к Новому времени, часто по материалам и по технике еще апеллировала к иконописи. Нередко она исполнялась на деревянной доске с ковчегом, что еще более усиливало ее близость к иконе. Типология представленных на выставке в ГИМе парсунных портретов очень широка - от портретов, ориентирующихся на миниатюры из "Титулярника", до парсун, в которых очевидно влияние польского придворного портрета с поясняющими надписями в пышных картушах и западноевропейской живописи XVI - XVII веков. В своей стилистике парсуна совмещает как черты старой, идущей от иконописи манеры плоскостного изображения, так и новой, объемной моделировки светотенью.
В отдельный типологический ряд на выставке выделена "Преображенская серия". Портреты членов "Всесвятейшего сумасброднейшего собора всешутейшего князь-папы" были заказаны Петром I для своего нового Преображенского дворца, построенного в 1692 году, и изображают наиболее близких и интересных Петру персонажей. Композиция портретов этой серии отсылает к классическому полупарадному типу портрета, и в определенном смысле в этих полотнах пародируются классические особенности портретного жанра, прежде всего тяжеловесные интонации парсуны и пафос в представлении модели.
С одной стороны, портреты "Преображенской серии" имеют немало общего с голландскими портретами-типами жанрового и этнографического характера, распространенными в XVII веке. С другой стороны, "Преображенская серия" не может не вызывать ассоциации с западноевропейским шутовским портретом. Кстати, первое время серия так и именовалась - "шутами". Но если в западноевропейской живописи, например в портретах шутов кисти Веласкеса, модели представлены в своих профессиональных ролях, то в русском варианте в роли шутов выступают и представители самых знатных родов, и вовсе случайные личности, равно необходимые Петру.
Таким образом, выставка чрезвычайно полно исследует вопрос начального развития портретного искусства в России и дает интересный многообразный портрет человека, стоящего на рубеже исторических эпох.
|