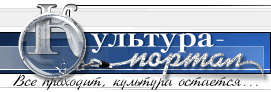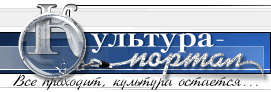|
 |
| В.Васильев |
Владимир ВАСИЛЬЕВ был рожден, чтобы танцевать, и нам несказанно повезло - мы видели его божественный танец, поражавший мастерством танцевального перевоплощения, органикой исполнения сложнейшей хореографии, безупречностью театрального вкуса. Он обладатель Гран-при, золотых медалей международных конкурсов и фестивалей, премий имени Дягилева, Нижинского и Петипа - самых престижных знаков избранности. Кажется, нет в мире наград, которые остались бы им не завоеванными. Васильев - звезда Большого театра, первый танцовщик XX века, украшал спектакли труппы Мориса Бежара "Балет ХХ века", Марсельского балета, театров Ла Скала, Опера де Пари, Ковент-Гарден, Метрополитен, театра Неаполя "Сан-Карло", театра Арена ди Верона и многих-многих других. Эра Васильева не закончилась и сегодня: он ставит балетные спектакли в нашей стране и за рубежом, преподает, снимает фильмы, пишет стихи и прозу, создает живописные полотна. И все это делает легко, свободно, вдохновенно.
- Владимир Викторович, чем вы заняты в настоящее время?
- Готовлю Гала-вечер "Галине Улановой посвящается", который пройдет 16 мая на сцене Большого театра. В прошлом году мы провели концерт памяти Галины Сергеевны на сцене Новой Оперы, а теперь, надеюсь, улановские вечера будут ежегодно проходить в Большом. Есть задумка сделать их традиционными для двух театров: Большого и Мариинского. Это исторически справедливо - ведь в творчестве великой балерины обе сцены были одинаково важны: петербургская (для Улановой, конечно, - ленинградская) и московская спаяны в единое целое, как две половинки.
- Какова будет программа?
- В концерте примут участие артисты двух балетных столиц. Заманчиво привлечь весь кордебалет Мариинского театра, но, к сожалению, не получается - "мешают" заранее объявленные в афише Мариинского спектакли. Зато приедет немало мариинских солистов, которые исполнят балет Уильяма Форсайта из недавней премьеры. Москвичи станцуют третью и четвертую части "Симфонии до мажор" Джорджа Баланчина. Будут фрагменты из "Спящей красавицы". Хочу подготовить с юными исполнителями "Ноктюрн" на музыку Шопена, который поставил более десяти лет назад. Мы с Екатериной Максимовой единственный раз станцевали его в Монреале. Больше этот "Ноктюрн" никто никогда не исполнял. Говорить сейчас более подробно о программе нет смысла. Главным действующим лицом станет Галина Сергеевна. Слава Богу, сохранилось немало кино- и видеодокументов.
- Этот Гала готовит созданный вами Фонд Галины Сергеевны?
- Да. Фонд Улановой существует. У нас есть проект по созданию в Москве Центра танца имени Улановой, в котором были бы представлены все танцевальные направления. Идея-то замечательная, и думаю, что реализовать ее было бы значительно проще, когда я был директором Большого. Тогда можно было бы договориться со всеми, от кого зависит принятие решений. Увы, сейчас все гораздо сложнее. Чтобы не быть голословным, скажу: на прием к мэру Лужкову я так и не смог попасть, а с архитектором Кузьминым уже две недели не могу связаться даже по телефону. Представляю, что происходит с людьми, у которых нет известного имени, - они, наверное, вообще ничего не могут добиться.
- Есть ли в ваших планах постановка нового балета?
- Лет пятнадцать назад я задумал балет "Мария Д'Авалос" и даже написал либретто, основанное на реальных исторических событиях. Это пронзительно-трагическая и загадочная история, в центре которой поразительная женщина. В конце XVI века в Неаполе проходил судебный процесс, который наделал немало шума. Князь Карло Джезуальдо, один из композиторов - титанов Возрождения, убил свою жену и ее любовника. После этого прожил еще двадцать лет отшельником и сочинял гениальные мадригалы о любви, скорби и смерти.
В качестве музыкального материала планировал взять отдельные произведения самого Джезуальдо. Сначала хотел делать спектакль в Неаполе, в то время, когда думал поработать в Италии подольше. Встречался даже с композитором, одним из потомков славного рода Д'Авалос. Не так давно вспомнил об этом либретто и загорелся осуществить этот балет. Есть и другие задумки, которые пока не воплощаются, так как требуют и сил, и средств. Все свободное время сейчас рисую.
- Кажется, нет сегодня любителя балета, который не знал бы ваших живописных работ. Как и когда вы увлеклись живописью?
- Начал рисовать в четырнадцать лет. Тогда пионерский лагерь, в котором мы проводили каникулы, закрылся, и в нем разместилась на лето известная художественная школа, что напротив Третьяковки. Мы же, обделенные, скучали по нашему лагерю, средств на дальние путешествия не было, да и привыкли к тем местам. Летом поехали туда втроем: Валера Туманов, Володя Иващенко и я. Нас оформили работать водовозами, а заодно мы, конечно, отдыхали. Я смотрел, как пишут юные художники, наблюдал их на этюдах - это нравилось, и я решил попробовать. Вот такие были у меня художественные университеты. Профессионально живописи не учился никогда. Кстати, тем летом, в лагере, я познакомился и с Рафаилом Вольским, и со многими другими ребятами, которые стали известными художниками.
Потом внезапное увлечение рисованием так же быстро меня оставило, и на многие годы. Новый живописный порыв возник в конце 80-х. Сработала защитная реакция организма в период "театрального раскола" Большого театра. Как-то непроизвольно потянуло рисовать. Пишу в основном пейзажи, люблю рисовать Костромской край. В последнее время увлекся акварелью.
- Выставок ваших работ не предвидится?
- Вы спрашиваете меня, как профессионального художника, работы которого постоянно кочуют из одного выставочного зала в другой. Рисование для меня - увлечение, и в качестве художника я себя никогда не воспринимал всерьез.
- Но ведь у вас были персональные выставки. Интересной оказалась экспозиция в Большом театре в дни юбилея, картины выставлялись в ЦДРИ...
- В апреле откроется выставка моих работ в Перми, в одном из залов художественной галереи. В это время в городе будет проходить конкурс артистов балета "Арабеск".
- Вы являетесь художественным руководителем "Арабеска" и стояли у его истоков. Как пришла в голову идея создания конкурса на Урале?
- Мысль посетила пермяков. Нам с Екатериной Максимовой предложили возглавить конкурс, и мы с удовольствием согласились. Первые годы председателем жюри был я, но в последнее время я был лишен возможности приезжать на все конкурсные показы, и сейчас председатель - Екатерина Сергеевна.
"Арабеск" - состязание всероссийское, но в нем могут принимать участие и зарубежные исполнители. По характеру - вполне демократичен, и конкурсанты смело показывают экспериментальные и лабораторные работы. Несколько лет тому назад меня просто поразили отличные номера современной хореографии, исполнявшиеся на втором туре.
- Вы сотрудничали со многими театрами страны и мира. Если не ошибаюсь, то особые отношения вас связывают с Италией, и вы готовились возглавить балет Римской Оперы?
- Действительно, лет десять тому назад я получил предложение стать директором балета Римской Оперы. Соблазнительным казалось осесть в Вечном городе на некоторое время. Я очень люблю Италию, для меня это вторая страна после России. Правда, там лучше отдыхать, а работать долго трудновато. Но приезжать на итальянскую землю на некоторое время - событие неизменно радостное. Но союза с Римской Оперой тогда (и сейчас понятно, что к счастью) не произошло. Я не подписал контракт, который мне предложили. А планов было немало.
Но связи с Италией не прерываются. На сцене Арена ди Верона сейчас идет "Аида" Дзеффирелли, в которой я ставил танцы, а еще есть проект поставить "Ромео и Джульетту" там же и снять фильм по этому балету. В мае во Флоренции будет показана моя постановка "Дон Кихота" в исполнении Токио-балета, а неделю спустя в Болонье выступит Литовский балет с моим "Ромео". Дирижировать спектаклем будет Мстислав Ростропович.
...Вообще предложений, связанных с выездами в разные города и страны, много. Но, видимо, годы сказываются, и уже хочется делать только то, чего сам желаешь. И... ни от кого не зависеть.
- То есть сейчас у вас нет конкретных связей с конкретными коллективами?
- Конкретно есть связи с Академией классического танца Большого театра в Бразилии.
- Это та школа, которую вы организовали в пору своего руководства Большим театром?
- Да. Это - удивительная школа. Я и не думал, что она станет столь популярной. Сейчас там учится огромное число детей, преподают замечательные педагоги из России.
- Извините за последующие вопросы, но беседовать с вами, не затрагивая их, невозможно. Я имею в виду пятилетний период вашего директорства в Большом.
- Не могу сказать, что разговоры на эту тему доставляют мне удовольствие. Тем более что ничего "жареного" сказать не могу. Мне до конца неясно, чем была вызвана такая спешная моя отставка. Честно говоря, мне и не хочется вникать в эти проблемы. Сейчас можно сколько угодно думать на этот счет, но счет "закрыт", и ни одно из предположений, вероятно, не будет верным.
Я понимал, что рано или поздно это произойдет, более того - считал и считаю, что любой руководитель любого ведомства должен быть сменяем. И все же мне было очень неприятно и, не скрою, больно, потому что случилось это таким неожиданным образом. Все окружающие в один голос говорили, как замечательно прошел сезон, все одобряли планы на будущее, а в лицемерии сразу всех заподозрить невозможно... И вдруг все планы рушатся в один миг, безо всякого предупреждения.
- Это было странным и для критики, которая, хотя не вся и не всегда, принимала ваши постановки, но, как и зрители, была благодарна вам за спектакли Баланчина, "Русского Гамлета" Бориса Эйфмана, гастроли труппы Матса Экка, модернистскую версию прокофьевской оперы "Любовь к трем апельсинам" в постановке Питера Устинова, "Сны о Японии" Алексея Ратманского и многое другое.
- До сих пор люди звонят с благодарностями. Рад, что не стал царедворцем, а делал то, что умел. Те пять лет я не считаю выброшенными из жизни, потому что получал творческое удовольствие от работы. И сделал немало. Но многого не успел. Первые совместные гастроли оперы и балета в Лондоне провели, как и единственный пока новогодний бал в Большом, а открыть следовавший сезон в форме праздничной театральной инаугурации не успели.
- Ваш любимый афоризм "Я знаю, что я ничего не знаю" остался неизменным?
- Да. Эти слова заставляют двигаться дальше, к познанию. Директорство меня тоже многому научило. Например, говорить жестко, в лицо произносить слова нелицеприятные. Выработал свои правила: выслушивать всех, без исключения, понимать проблемы подчиненных так, словно речь идет о насущном для тебя лично. Приучил себя к бумажной работе и не брезговал ею.
Пришлось на себе испытать, что художник и власть - вещи трудносовместимые. Быть может, художнику необходимо противостояние? Не знаю, но я старался вывести театр из скандалов и интриг в большое искусство. Все ли получалось? Конечно, нет. И времени не хватило, да и у каждого человека, будь он начальник или подчиненный, есть свои плюсы и минусы. Это естественно.
- Последние годы в Большом театре вас не видно...
- Со времени увольнения я ни разу не ходил в Большой театр. Все эти годы не мог заставить себя перешагнуть порог Большого, в котором прошла вся жизнь. Впервые пришел недавно в связи с переговорами об улановском вечере, а затем посмотрел балеты Баланчина для того, чтобы понять, как они сейчас идут и можно ли их включить в программу концерта. Один раз был и в новом здании Большого - на фильме Доменика Делюша о Джордже Баланчине и Виолетт Верди.
- Я хорошо вас понимаю, но ведь время лечит.
- Французы говорят: "Время - лекарь, но оно в конце концов убивает". Я пришел в кабинет, где провел пять лет жизни, куда приходил ежедневно, и никакой ностальгии не почувствовал. Провел переговоры с Анатолием Иксановым и ушел. И даже подумал: а, может и хорошо, что так все случилось: появилось что-то новое. Кого-то, правда, такие встряски губят. Например, Марис Лиепа без театра не смог жить. Меня, наверное, спасла живопись: я тогда начал рисовать с утра до вечера. Сами собой рождались стихи.
Это возвращение в Большой напомнило мне посещение в качестве зрителя балета "Спартак" после долгого перерыва. Тогда многие следили не за тем, что происходит на сцене, а за моей реакцией на один из самых моих нашумевших спектаклей. А я никак не реагировал - ни внешне, ни внутренне. Чувствовал отстраненность, будто это другой спектакль, к которому я никогда не имел отношения. Что-то в новой трактовке нравилось, что-то нет.
- Многие задавались вопросом, почему Екатерина Сергеевна не ушла вместе с вами из театра?
- Как Катя могла уйти? У нее ученицы, и существуют обязательства перед ними. Она не способна подвести девочек, которые надеются на ее помощь. А потом есть же такое понятие, как порядочность. Бросить театр Катя не имела права и хорошо это понимала. В нашей семье такой вопрос даже не обсуждался.
Кроме того, моя директорская должность никак не была связана с ее работой. В пору моего руководства мы старались поменьше общаться внутри театра, никак не подчеркивая родственных отношений.
- Вас много раз справедливо называли одной из самых красивых и дружных пар. В чем секрет вашего семейного долголетия?
- Быть может, в том, что мы диаметрально разные. И по характеру, и по настроениям, и даже по биологическим ритмам. Я - спринтер, Катя - стайер, я - экстраверт, она - интроверт, я - жаворонок, она - сова. Вполне дополняем друг друга. Мы знакомы с детства, поженились рано - вся наша жизнь прошла вместе.
- В ваших сочинениях прослеживается стремление к синтезу выразительных средств, заимствованных из разных искусств...
- Давно одержим идеей соединить в одно действие разные виды музыкально-сценических искусств. Когда-то в Италии, лет двадцать назад, я задумал воплотить на сцене
H-mollьную Мессу Баха - спектакль, где на равных будут представлены все виды театрального творчества. Месса - это, если можно так сказать, антология мира, все его периоды от зарождения и, конечно же, осмысление бытия в общефилософском масштабе. Мне казалось, что Месса может воплотиться в Мариинском или Большом, то есть в театре, где есть и опера, и балет. Проект грандиозный, и если его осуществлять в небольшой труппе, то надо нанимать танцевальную и вокальную группы. А это сложно. Давнюю задумку я все откладывал, но время уходит. Вот так и у нас с Евгением Колобовым была идея поставить оперно-балетную "Кармен", но... не успели.
Да и спектакль о Марии Д'Авалос мне хотелось бы сделать с музыкантом в главной роли, ведь герой - композитор и дирижер. Например, с Юрием Башметом...
- Но у вас же были опыты по изменению театрального пространства, например?
- Были, но как этюды, подводки, пробы. В "Ромео и Джульетте" я вынес оркестр на сцену. Это не было эпатажем, мне казалось, что музыка Прокофьева зазвучит по-другому, когда музыканты окажутся внутри действия, когда одним из главных действующих лиц станет дирижер. Это были предпосылки для создания настоящего, классического шоу.
- А реквием "О, Моцарт, Моцарт" в Новой Опере?
- В "Моцарте" есть четкая градация, разделение на партии хора и балета. А мне бы хотелось, чтобы голосоведение продолжала пластика, а танец "подхватывался" пением. Сделать спектакль действенным для меня всегда было очень важным.
- Стоит ли смешивать устоявшиеся жанры, которые имеют свои законы и закономерности?
- Глубоко убежден, что новый век диктует новые условия. Сегодня уже нельзя замыкаться в рамках жанра. Любая опера - даже самая классическая - должна подаваться иначе, в духе времени. Вы не задавались вопросом, почему утвердилась мода на попсу, на шоу? Совсем не потому, что все, кто увлечен ими, в искусстве не разбираются. Просто восприятие зрителей нового тысячелетия - времени компьютерных технологий - помимо слухового требует визуального воздействия. Музыкальный спектакль должен быть интересен всеми составляющими. Времена, когда в опере только пели, а в балете только танцевали, прошли. Не надо бояться слова "шоу". Ошибочно думать, что мультимедийный ряд может присутствовать только на эстраде. Это - сегодняшние средства, и они ворвутся в классику, от них никуда не спрятаться, хотим мы этого или нет.
Пора уже классические образцы переводить на новый театральный язык. Молодежь, которая окружена столькими соблазнами, можно увлечь наполненностью происходящего на сцене. Современным мегаспектаклем, но без псевдоигры в актуальность. Не обязательно всех наряжать в современные одежды, как это часто происходит на Западе. Ведь такое делается иногда не от хорошей жизни, просто стоит дешевле, чем пошив "старинных" костюмов.
Мне близка идея создания спектакля "Блуждающие звезды", в котором бы героиня была певицей, а герой - танцовщиком, это жанровое соединение на уровне сюжета постоянно будоражит. Но не имею возможности реализовать его: многого не успеваю. Что наводит на мучительные и печальные раздумья о несостоятельности.
- Странно слышать от вас - "танцовщика ХХ столетия" - слова о несостоятельности.
- Неудовлетворенность преследовала меня всегда: и когда танцевал, и когда ставил. Я не состоялся настолько, насколько это соотносится с моим представлением о собственных возможностях. У каждого художника есть ощущение того, что он может. Это своего рода идеал, он меня вел, я к нему стремился, но он мне не поддавался. Знал, что мог сделать больше, но не сделал. Отсюда - неудовлетворенность собой. Исключением можно назвать только начальный этап моих живописных опытов. Тогда получал удовольствие от того, что сижу, смешиваю краски, кладу их на холст и - самое интересное - мне нравилось то, что получалось. Сейчас это прошло, и мне уже не нравится то, что мною сделано. А это толкает к дальнейшей работе.
Искренне считаю, что в моем творчестве слишком много пробелов, а озарения случались редко. Ни про один свой спектакль я не могу сказать - тогда случилось чудо. А зрители говорили добрые слова даже тогда, когда я считал, что спектакль проходящий. Иногда говорят и пишут, что видели мою одаренность в то время, когда я был ребенком. Этого не было. В моей биографии многие и многое надумали.
- Мне посчастливилось видеть вас на сцене, и неоднократно, а потому кажется, что сейчас надумываете вы...
- Дело в том, что все мы - и актеры, и танцовщики, и хореографы - интерпретаторы. То, что делаем сейчас, через полсотни лет покажется ужасно наивным и даже отсталым.
Мы, балетные люди всех специализаций, имеем дело с живым материалом, а он изменяется постоянно. Потому нет одинаковых спектаклей, а миг гениальных прозрений неуловим и скоротечен. Искусство, созданное из живого материала, живет секунды и не может оказаться эталонным навсегда.
Вот взял я комок глины и слепил любую форму - такой она останется на века, пока не рассыплется. А живой человек? Он меняется каждый день. А если проходят десятилетия? Тогда то, что было трагично, заставит улыбнуться или даже вызовет смех. Музыка в меньшей степени подвержена разрушению временем, остаются зафиксированными ноты. У композиторов, писателей, поэтов, художников - у тех, кто имеет дело с неживым материалом, всегда есть надежда: вот пройдет время, пусть меня не будет, но мои произведения поймут и оценят потомки. В балете это невозможно. Не поняли тебя сегодня - и все, "завтра" для нас не бывает.
- Бесперспективную картину вы нарисовали. А есть ли выход? Для хореографа, например.
- Постоянно меняться. Это единственное спасение художника. Хореографу нельзя заниматься воспроизводством себя, своих находок. Хореограф, который остается неизменным в творчестве, обречен пережить свой крах.
Леонид Якобсон постоянно разрушал свои же стереотипы, подвергал критическому самоанализу все ранее созданное. Это, конечно, сложно. Но, с другой стороны, убежден, что себя критиковать легче. Себя я могу искренне уничтожать и подтолкнуть к переосмыслению, а критика со стороны наносит боль, и, наоборот, хочется принять ее в штыки.
- Вас часто можно видеть на премьерах и концертах. Что вас привлекает и увлекает в них?
- Поражают только такие спектакли, в которых я вижу, что актер, который выходит на сцену, создает волнующий образ, пронизанный понятной мне мыслью. Я должен почувствовать, что это делает именно актер, и забыть о драматурге, композиторе, хореографе, художнике, либреттисте. Тогда действительно бываю взволнован. Но, к сожалению, многое из того, что вижу, раздражает. Причем раздражает именно тогда, когда я либо не понимаю, либо, напротив, понимаю, что мне хотят сказать, но делают это нарочито. В основном режиссеры и хореографы скованы своей системой, и их ход разгадать несложно. Очень мало режиссеров, которые тебя во время спектакля "держат на крючке", когда с интересом следишь и пытаешься разгадать их идеи, а когда понимаешь, то происходит радость необыкновенная.
Мне вообще всегда казалось, что современный танцевальный язык, язык модерн-танца, беспределен. Но оказалось, что он ограничен. Во всяком случае, у большинства хореографов. Они тоже замыкаются в собственном пластическом представлении и эксплуатируют найденное: то подвижность корпуса, то определенные движения ног и т.д. Но дело даже не в этом. Для меня всегда важно понимать, зачем танцовщики делают то или иное. Эти вечные "зачем" и "почему" вбиты в нас с детства. Часто отвечают: да не почему, так хочется, так видится, так представляется. А это уже какие-то домашние радости - не искусство.
- Не потому ли вы взяли курс на модернизацию классики, переосмыслив и "Жизель", и "Лебединое озеро"?
- Что бы ни говорили о "Лебедином озере", все равно нет ни одного такого спектакля, который хоть как-то выдерживал критику по части либретто. К счастью, для этого спектакля были созданы такие образцы, как второй акт Льва Иванова и Черный лебедь Мариуса Петипа. Но ведь большинство балетных завсегдатаев после третьего акта покидали театр - дальше невозможно смотреть. С точки зрения драматургии, в "Лебедином" есть просто абсурдные вещи. Когда я свой спектакль пересматриваю, то понимаю, что и первый, и четвертый акты удачны, а в лебединых сценах просчеты и пробелы, конечно, были. Пройдет время, и я думаю, что вернусь к "Лебединому" и воплощу все задуманное.
- Как любили мы ваше "Фуэте"! Есть ли надежда, что вы что-нибудь сделаете в кино?
- В кино - не знаю. Хотел бы снять телевизионный сериал. О себе. Не из эгоизма, поверьте. Через свою жизнь показать эпоху - потрясающих, удивительных, талантливых людей (а их сотни!), с которыми я был связан. Это был бы сплав документального и хроникального, игрового и художественного кино. Точку в фильме поставила бы только моя смерть.
- Сейчас много говорят о бедственном положении балетных пенсионеров. А как живет пенсионер Владимир Васильев?
- Если можно, разграничу ответ. Пенсионер Васильев живет хорошо и ни в чем не нуждается, хотя пенсия составляет 2300 рублей. Но я на нее не живу - это и невозможно. Живу на авторские отчисления. Если бы их не было, то, наверное, распродавал бы дорогие мне вещи и, в конце концов, пришел бы к печальному финалу. Но мне это, к счастью, пока не грозит. Я не могу жаловаться, но знаю, как нищенствуют мои коллеги, оставившие сцену и не нашедшие другой работы. Наблюдая их жизнь, я стал болезненно воспринимать заявления государства о том, что оно нас облагодетельствовало. Простите, нет. За тот минимум, который нам оставили на старость, мы заплатили нашими руками, ногами, здоровьем. У меня же пока есть работа, которая приносит и материальные блага, и творческое вдохновение.
- То есть жизнью вы все-таки довольны?
- Я рад тому, что я живу.
|