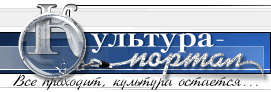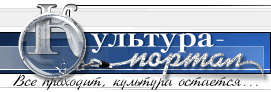|
 |
| Портрет А.Таирова с дарственной надписью Ю.Хмельницкому |
Одна из самых горьких и самых восхитительных театральных легенд XX века - легенда Камерного театра, открытого в Москве 90 лет назад, в декабре 1914-го, и знаменитого своим репертуаром - "Фамира Кифаред", "Федра", "Жирофле-Жирофля", "Косматая обезьяна", "Любовь под вязами", "Негр", "Опера нищих", "Оптимистическая трагедия", "Мадам Бовари"... Спектакль, который шел на сцене нового театра в день открытия, - "Сакунтала" Калидасы - был поставлен А.Я.Таировым, главную роль вела А.Г.Коонен. Спектакль, который был сыгран Камерным театром в последний раз, в мае 1949-го, - "Адриенна Лекуврер" Скриба и Легуве - тоже был поставлен Таировым, и главную роль в нем тоже вела Алиса Коонен. Эту роль она исполняла в течение тридцати лет и после того, как по указанию Таирова перед рампой опустили "железный" занавес, чтобы унять рев восхищения и боли, охвативший зрительный зал в минуты прощания с театром, больше на сцену не выходила. Камерный театр не был закрыт: ситуация была иной - более сложной и более неоднозначной, чем принято считать и думать даже спустя годы. На собрании, инициированном Комитетом по делам искусств при Совете Министров СССР, многие недавние актеры-единомышленники отвернулись от создателя театра, обвиненного во всех смертных грехах: печально знаменитая статья "Театр, чуждый народу", вышедшая еще в 36-м, после премьеры таировских "Богатырей", разыгрывалась, что называется, по ролям и в лицах. "Актеры, которых считал мне преданными, меня же и предали", - признавался Таиров. Через месяц "в порядке перевода" Таирова назначили режиссером Театра имени Вахтангова, где он вместе с Коонен появился только один раз - на сборе труппы, - но остались незамеченными. В начале 50-го Таирову и Коонен приказом Комитета по делам искусств назначили пенсию союзного значения за заслуги перед советским искусством. В августе 1950-го под видом реорганизации Камерный театр переименовывают в Московский драматический театр имени А.С.Пушкина. А через полтора месяца, в сентябре 1950-го, Таиров умирает.
 |
| А.Коонен - Адриенна Лекуврер, Ю.Хмельницкий - Морис Саксонский в спектакле "Адриенна Лекуврер" |
"Может быть, со временем мы узнаем точно, какой "деятель искусств" написал донос на Таирова, какой чиновник доложил его вышестоящему, кто написал резолюции. Но и сейчас уже ясно: театр Таирова погубили в угоду серости, в угоду единомыслию", - пишет народный артист России Ю.О.Хмельницкий, чья книга "Из записок актера таировского театра" выходит в свет накануне 90-летия со дня рождения театра и 100-летия со дня рождения автора воспоминаний. Двенадцать глав этой книги целиком и полностью посвящены Камерному театру, эпохе Камерного театра, тихо убитого властью предержащей - так, чтобы в истории осталось как можно меньше подробностей, свидетельств, имен... Их осталось действительно не так уж и много. Но главное - осталась легенда, оказавшаяся сильнее обстоятельств, не связанных с тем, что на протяжении 35 лет создавалось Таировым как особый театральный стиль, не имевший аналогов ни с какими иными театральными течениями, формами и направлениями. Камерный театр - потому и легенда, что ни повторить, ни воссоздать его невозможно.
 |
| Ю.Хмельницкий - Мэкки в спектакле "Опера нищих" |
Ю.О.Хмельницкий покинул Камерный театр за два года до того, как в здании на Тверском бульваре сыграли последний спектакль. Останься он дольше, обязательно играл бы в "Адриенне", где у него было две роли - либо Мориса Саксонского, либо аббата Шуазеля. Таиров, некогда выбравший его на роль Мэкки Ножа в "Трехгрошовой опере" Брехта - Вайля, которую Камерный театр в России ставил впервые, и доверял ему немало главных ролей - от трагических до буффонных, - сожалел, что их пути разошлись. Что Хмельницкий не присутствовал на том историческом собрании, после которого ему, Таирову, пришлось подать заявление об уходе. Обо всем этом, впрочем, Юлий Осипович Хмельницкий пишет в своих воспоминаниях. О своих коллегах - замечательных партнерах по сцене И.Аркадине, В.Ганшине, А.Румневе, Н.Эфрон, А.Толубеевой, А.Инберг и многих других, кто, по мнению автора, отнюдь не аккомпанировал непревзойденным Алисе Коонен или Николаю Церетелли, но представлял собой и своими работами на театре высокого свойства художественный интерес. Хмельницкий вспоминает о театральной Москве 20 - 30-х годов, когда проходила его театральная юность, об эвакуации Камерного театра в Балхаш и Барнаул, о постановках "Оптимистической трагедии" и "Трехгрошовой оперы", о триумфальных гастролях театра, где служил, по странам Европы и Америки... Но мало и нехотя пишет о том, что составляло его жизнь вне Камерного театра, потому что Камерный театр и был главной жизнью всех, кто оказался с ним связан.
Свою актерскую деятельность Хмельницкий продолжил сначала в Московском театре оперетты, затем как режиссер руководил тремя музыкальными театрами - в Ленинграде, Волгограде и Краснодаре. Преподавал в театральных вузах Москвы вместе с женой Натальей Гориной - тоже актрисой Камерного театра. В 50-е годы поставил первый и единственный свой фильм - "Мистер Икс" с Георгом Отсом в главной роли. Воспоминания о Камерном театре были написаны Юлием Осиповичем в середине 80-х и после его кончины в 1997 году хранились в РГАЛИ. Предлагаем вниманию читателей отрывки из "Записок актера таировского театра", которые готовятся к публикации издательством "ГИТИС".
"Опера нищих"
 |
| С дочерьми и режиссером Большого театра Л.Баратовым |
Летом 1929 года Александр Яковлевич Таиров вернулся из Берлина, куда он выезжал в связи с намечавшимися на 1930 год длительными гастролями Камерного театра. Очевидно, поездка оказалась удачной - настроение у него было прекрасное, энергия била через край.
Таиров часто собирал труппу и проводил беседы на разные темы, чаще всего творческие. На этот раз он рассказал нам об очень интересном маршруте предполагаемых гастролей театра во многие города Европы и Латинской Америки. Но самое главное, что так его воодушевило, - это встреча в Берлине с Бертольтом Брехтом, который передал Александру Яковлевичу свою новую остросатирическую пьесу "Трехгрошовая опера" с великолепной музыкой Курта Вайля. Таиров готов был сразу же приступить к ее постановке. Задерживал перевод пьесы, над которым трудились Вадим Шершеневич и Лев Никулин.
Кроме того, возникло непредвиденное осложнение. Каким-то образом пьесу Брехта получил и Театр сатиры. Там считали, что такое произведение должно идти только в их театре. Никому не желая уступать права на постановку, они распределили роли и приступили к работе.
Одновременная постановка в двух московских театрах одной и той же пьесы не устраивала ни сами театры, ни театральное начальство.
Началась тяжба.
На стороне Камерного театра в первую очередь был высокий авторитет Александра Яковлевича Таирова. Он доказывал, что пьеса Брехта как будто специально создана для Камерного театра - театра синтетического, осуществившего ряд комедийных, сатирических и музыкальных спектаклей, что актеры театра владеют искусством острого рисунка. Кроме того, почти готово оформление, сделанное по макету братьев Стенбергов. Наконец, у Таирова в запасе был еще один очень веский аргумент. Будучи в Берлине, он приобрел ряд музыкальных инструментов, позволявших оркестру вносить в музыку джазовые интонации, что диктовалось партитурой Курта Вайля. В те годы джаз в нашей стране не был в почете, и такие инструменты достать было невозможно.
В итоге тяжба с Театром сатиры закончилась в пользу Камерного театра. Таиров добился права на осуществление первой в Советском Союзе постановки пьесы "Трехгрошовая опера". У нас она шла под названием "Опера нищих" (это название английского первоисточника, по которому Брехт создавал свою пьесу). В 30-е годы Камерный театр был единственный в стране, где шла пьеса Брехта.
...Наконец, перевод был готов, и театр приступил к репетициям. Как всегда, работа началась с распределения ролей. И вот расписание вывешено, но на центральную роль Мэкки-Мессера (сейчас этот персонаж называют Мэкки Нож) почему-то никто не назначен. Постановщик Таиров и режиссер Лукьянов, очевидно, не видели в труппе актера на эту сложную и ответственную роль, вокруг которой все вертится, которая является главной пружиной всех событий.
И Александр Яковлевич нашел оригинальный выход, очень редко применявшийся в театре. Он решил устроить конкурс, дабы точнее определить наиболее подходящего на эту роль актера. Для пробы был вывешен список из шести актеров. Среди них был даже актер, приглашенный в театр специально на роль Мэкки. К величайшему моему изумлению и радости, в этом списке была и моя фамилия. Для молодого актера, еще не сыгравшего ни одной сколько-нибудь значительной роли, это было событие из ряда вон выходящее. В те времена молодые актеры выдерживались по нескольку лет на маленьких ролях, на эпизодах, даже просто на выходах "с подносом", пока не подвернется какой-нибудь счастливый случай: срочная замена, внезапная болезнь ведущего актера. При удаче это и являлось часто трамплином для получения более ответственной роли и завоевания ведущего положения. Говорили, что знаменитый актер Степан Кузнецов в молодости приходил ранним утром в театр и интересовался, нет ли больных? Не нужна ли экстренная замена? Он готов был играть любую роль.
Назначение на пробу уже было величайшим счастьем. Но пять соперников... Ситуация для меня явно безнадежная. Должен честно признаться, ни одной минуты я не сомневался, что играть эту роль будут актеры более опытные, более именитые, а меня назначили в числе шестерых на всякий случай. Я считался актером музыкальным, поющим, танцующим, поэтому решили попробовать - а вдруг, чем черт не шутит...
Александр Яковлевич пригласил к себе в кабинет всех кандидатов. Объяснил, зачем объявлен конкурс - мол, очень необычная роль, необычный язык брехтовской драматургии, впервые будем играть Брехта, рисковать нельзя и т.д., и т.п.
В итоге предложил всем шестерым выучить два музыкальных номера, наиболее характерных для роли, и через несколько дней показать. Каждому было предоставлено право самостоятельно разработать исполнительскую сторону, кто как видит и понимает образ и характер Мэкки.
Через несколько дней на сцене было устроено прослушивание, а точнее - просмотр, экзамен. Так как я значился в конце списка, меня и пригласили последним. Я был уверен, что для меня это будет первым и последним исполнением роли Мэкки, и вышел на сцену совершенно спокойным, раскованным, даже несколько развязным. Если и не буду играть Мэкки, то, во всяком случае, есть возможность показать себя - показать, на что способен. Исполнял я музыкальные номера в какой-то самоуверенной, даже нагловатой манере, таким мне представлялся этот покоритель женских сердец, ловкий, бесстрашный король лондонских бандитов. Когда закончил оба номера, наступила пауза. Я со сцены все же разглядел сидящих в темном партере Таирова и Лукьянова. Они явно чему-то улыбались. Ничего мне не сказав, довольно долго и оживленно что-то обсуждали. Я терпеливо стоял на сцене и ждал.
Они попросили меня еще раз повторить то же самое. Я это охотно сделал. Возможно, они увидели меня в каком-то новом, им еще неизвестном качестве, или моя смелость и развязность в какой-то мере совпали с их представлением об образе и повадках Мэкки, а, возможно, сыграло роль и желание в новой премьере открыть новую актерскую фамилию. Это иногда любят режиссеры. В итоге постановщики остановили на мне свой выбор. И я стал репетировать в первую очередь. Работал самоотверженно, не зная ни минуты отдыха. Жил это время только моим бандитом. И все же сомневался в том, что выбор окончателен. Но было очень важное подтверждение того, что роль останется за мной: костюмы шили на меня (из экономии тогда костюмы шили на один состав).
Труд мой не пропал даром. Я играл премьеру и таким образом оказался первым исполнителем роли Мэкки и в Камерном театре, и у нас в стране.
Не могу не рассказать хотя бы коротко о своих товарищах, исполнителях основных ролей. Рисунок спектакля был очень острым и многоцветным. В нем звучали и ирония, доходящая подчас до сарказма, и пародия; иногда зрелище приобретало трагикомический, а порой и жуткий характер, особенно сцены нищих, где блестяще игравший великолепный актер Лев Фенин создавал зловещую, на грани гротеска, фигуру Пичема.
Брауна играл Иван Аркадин - актер, которому были подвластны и драматические, и комедийные роли.
А непротрезвляющаяся жена Пичема, мадам Пичем, в исполнении Елены Уваровой была и смешна, и страшна, и цинична. Роль Дженни, верной подруги Мэкки, великолепно играла красивая и грациозная Наталья Эфрон. Она любила его горячо. Но, страдая и мучаясь, все же передала его в руки полиции.
...Все исполнители обладали голосами, были поющими. И отличные музыкальные номера Курта Вайля звучали прекрасно.
Вспоминается несколько забавных эпизодов, связанных с этим спектаклем. Неожиданно для того времени финал спектакля был поставлен с вовлечением в действие зрителя. Бесконечное шествие движется по кругу, весь люмпен Лондона направляется на площадь, где должна состояться казнь Мэкки. Открывается площадь. Посередине сцены возвышается эшафот - довольно высокий станок. На нем виселица буквой "Г." Свисает веревочная петля. Под виселицей стоит Мэкки, чуть сзади - палач в черном фраке, в черном цилиндре. Вся площадь запружена пестрой толпой. Мэкки поет прощальную балладу, обращаясь к самым близким своим друзьям: это бандиты, одетые как настоящие джентльмены, все в черных котелках, полицейские в парадных мундирах, пестрая группа проституток, нищие, калеки на костылях, в тележках, две обманутые его невесты в черных траурных платьях. Слышен плач женщин, стон нищих, искренне и громче всех рыдает начальник полиции Браун. Мэкки, заканчивая балладу, простирает руки к толпе, как бы прощаясь со всеми, - новый взрыв воплей и стонов.
Палач уже взялся за веревку, сейчас она будет наброшена на шею! Все! Конец! Вся площадь замерла, оцепенела. В это время раздается трубный сигнал. Гонец от королевы Англии. Королева все же женщина!.. Она не могла допустить казни такого мужчины, как Мэкки. И в то же время, как женщина, должна защитить честь женщины! Указ гласит: "Помиловать Мэкки только при обязательном условии, если он женится на одной из своих невест".
Под общее ликование Мэкки сходит с помоста, направляется на авансцену и обращается к сидящим в зале зрителям. "Дорогие мои зрители! Я готов исполнить приказ королевы и женюсь на одной из них (показывает на Полли, стоящую справа, и на Люси, стоящую слева) и буду жить с другой совершенно так же, как это делаете вы, дорогие мои зрители! Так как мне все равно, кто станет моей женой, то я прошу вас, мои дорогие зрители, помочь мне и голосованием определить, на которой из двух я должен жениться".
Зрительный зал охотно и оживленно участвовал в голосовании. Я старался всячески подогреть зрителя, говоря, что не понимаю... не слышу... прошу громче и активней называть имя предлагаемой невесты, и зритель, увлекаясь этой игрой, все громче называл и то и другое имя.
В итоге я определял, за кого больше раздавалось голосов, и ставил точку, обращаясь с широко раскрытыми руками к избраннице. Она с радостным криком "Мэкки!" бросалась в мои объятия. В это время я посылал воздушный поцелуй другой, незаметно для первой. Я благодарил зрительный зал за прекрасно проведенное голосование и отличный выбор для меня жены, на этом и заканчивался спектакль.
Поскольку от меня зависело, кому быть избранницей, то часто актрисы, игравшие роли невест, по очереди просили меня выбирать ту или другую, в зависимости от того, чьи друзья и знакомые сегодня в зале. Я охотно оказывал моим товарищам эту маленькую услугу.
...Когда в 1931 году в Советский Союз приехал знаменитый английский писатель Бернард Шоу, в Москве его тепло и радушно встречали. Шоу решили показать (то ли он сам этого пожелал) спектакль Камерного театра "Опера нищих", полагая, что ему будет интересно - ведь действие происходит в его родном Лондоне. В день спектакля в театре волнение: приводится в порядок оформление, некоторые сцены тщательно репетируются, особенно массовые.
Настало время начала спектакля, а Шоу нет и нет. Проходит десять минут, двадцать. Зритель начинает волноваться, слышны нетерпеливые хлопки. Таиров отдает распоряжение начинать спектакль. Настроение у актеров, конечно, упало, играли без особого воодушевления, довольно вяло. Первый акт подходит к концу, внезапно приезжает Б.Шоу. Зрители шумно его приветствуют, он улыбается, поднимая руку, приветствует зрителей, садится в первый ряд рядом с Алисой Георгиевной Коонен, которая была переводчицей (она прекрасно владела французским, каким Шоу также изъяснялся свободно).
Мы, актеры, были огорчены тем, что не покажем Шоу первый акт с прологом. Таиров, очевидно, испытывал то же самое и вдруг отдал распоряжение начать первый акт с самого начала - с пролога. Произошел тот редкий случай, когда зрители в один вечер один и тот же акт увидели дважды. Но вот оно - чудо живого театра с живыми актерами: зрители увидели как будто другой акт, актеры играли с особым подъемом, с особым нервом, в необычайно остром ритме. Занавес закрылся. Шоу и весь зрительный зал горячо аплодировали.
Далее произошло самое забавное. Через некоторое время занавес вновь открылся, и на сцену вышли все участники спектакля, неся большой стяг с приветствием, обращенным к Б.Шоу на английском языке. Увидя это, Шоу громко и заразительно засмеялся. Мы не сразу могли понять, в чем причина такой реакции.
О наша наивность!.. Мы недооценили острого глаза и саркастического, парадоксального склада ума этого остроумнейшего человека. Ведь вышли с плакатом его приветствовать не актеры в своих обычных жизненных костюмах, а персонажи пьесы - подонки Лондона: бандиты, нищие, проститутки. Шоу сразу уловил юмор в преподнесенном сюрпризе, это его по-настоящему и развеселило. Вспоминая наше приветствие, он вновь и вновь начинал смеяться. И надо сказать, Шоу ничуть не обиделся, прекрасно понимая, что все было сделано от чистого сердца, из уважения к его большому таланту, без всякого подвоха. После спектакля он весьма мило и дружелюбно прощался с актерами, благодарил и за спектакль, и за "трогательное" приветствие.
...В марте 1930 года Камерный театр выехал в большую гастрольную поездку за рубеж. В Европе "Оперу нищих" театр не играл. Для Европы тех лет Брехт был слишком революционен и опасен. Зато в Латинской Америке "Опера нищих" прошла с большим успехом. В Буэнос-Айресе появилась обширная и хвалебная пресса в газетах, издававшихся там на многих языках.
Играли мы спектакли, естественно, на своем родном языке, и в связи с этим возникла серьезная трудность - как закончить спектакль, если, как уже известно читателю, он так построен, что зрительный зал должен принять участие в финальной сцене. Было предложено несколько вариантов, однако Таиров их все отверг, решив оставить финал таким, как он поставлен. Вся тяжесть этого варианта легла на меня, игравшего Мэкки. Было решено заключительный монолог и диалог со зрительным залом вести на испанском языке.
В 30-е годы в Аргентине еще не было советского посольства, а было торговое представительство. Работники представительства были несказанно обрадованы нашему приезду. Они с нами не расставались, бывали на всех наших спектаклях, а в свободное от репетиций и спектаклей время очень ласково и тепло принимали нас у себя.
Один из работников представительства перевел монолог Мэкки на испанский язык и взялся меня учить правильному произношению. Но зазубривать звуки чужого языка, не понимая их смысла, очень трудно. Первый спектакль для меня был мучительным. В перерывах между сценами, в антрактах я все время твердил испанский монолог. По мере приближения финала меня начало лихорадить. Сзади меня на сцене, в толпе, были расставлены суфлеры с записочками, чтобы подсказать на случай какой-нибудь заминки. В общем, спектакль прошел благополучно. Зритель прекрасно проголосовал, и я от души поблагодарил его за выбор, но вернулся в уборную совершенно обессиленный и мокрый как мышь.
От спектакля к спектаклю все больше смелел, легко, даже несколько небрежно, как заправский конферансье, разговаривал со зрителем. За мою небрежность и самоуверенность на одном спектакле я и был наказан.
В обращении к зрителям после фразы "Я благодарю за прекрасный выбор" обычно раздавались аплодисменты, а на этот раз раздался дружный смех всего зала. Я ничего не мог понять. Когда занавес закрылся, ко мне со смехом бросился мой педагог. Оказывается, в одном слове я оговорился, вместо буквы "а" произнес букву "о". Такая, казалось бы, мелочь, а смысл фразы изменился до смешного. Вместо фразы "Вы сделали прекрасный выбор" получилось "Вы сделали прекрасный медведь", вышла абсолютная бессмыслица, и я понял, чем развеселил зрителя...
Вот что удивительно: монолог, который я с таким трудом выучил в свое время в Буэнос-Айресе, и сейчас, через 50 лет, могу воспроизвести совершенно точно, с настоящим испанским произношением, как будто это было только вчера.
"Москва прифронтовая"
...15 октября, когда фашисты были уже на подступах к Москве, было официально объявлено о срочной эвакуации театров, в том числе и нашего. Предложено ближайшим родственникам актеров и других работников театра собраться с вещами в нижнем фойе театра и быть готовыми к отъезду. Утром 16 октября все фойе и вестибюль забиты чемоданами, тюками, ящиками, корзинами и пр. Пожилые люди, старики, старухи уже с раннего утра переселились в театр. К нам обратился директор: "Товарищи! Ситуация критическая, даже чрезвычайно критическая. Прошу это хорошенько понять. На всю театральную Москву выделено только два вагона, нам предстоит с боем пробиваться в эти вагоны. Поэтому надо каждому быть налегке, взять с собой минимальное количество самых необходимых вещей: один рюкзак или чемоданчик, лучше рюкзак, с ним легче будет пробиваться".
Несколько придя в себя после ошарашившего нас сообщения, стали задавать вопросы. "А как же наши родственники?" - "Никаких родственников! Нам дано строгое указание во что бы то ни стало сохранить костяк, ядро театра. Решение не подлежит обсуждению. Через два часа, ровно в восемь, я буду вас встречать на Казанском вокзале". Директор быстро забрал со стола и из ящика какие-то бумаги, коробочки, уложил их в портфель и стремительно ушел.
Поддавшись общей панике, царившей в те минуты в театре, я вихрем влетел к себе на седьмой этаж. И хотя совсем стемнело, начал, не теряя времени на зашторивание окон, на ощупь собирать вещи, запихивая их в небольшой дорожный рюкзак. Шерстяной джемпер, теплое, на чистом пуху, одеяло, которое сворачивалось в маленькой комок и занимало мало места, зимняя шапка, безопасная бритва, пачка печенья. Про себя отметил: "Это для Маришки". В горке - целая, нераспечатанная бутылка коньяка... Не задумываясь, запихнул и бутылку. Надев осеннее пальто и шляпу, накинув на плечо рюкзак, стремглав сбежал с седьмого этажа, не тратя времени на вызов лифта.
В театре никого уже не было, лишь чемоданы, тюки, корзины, запрудившие фойе и вестибюль, глядели с молчаливым укором на нас, уезжавших. Потом мне подробно рассказали, какая трагическая сцена здесь разыгралась: слезы, рыдания, крики, даже истерики и проклятия. Плакали оставшиеся, плакали актеры, вынужденные оставить своих родных. Некоторые актеры отказались уезжать - не могли покинуть родных.
Встретил актрису Варвару Беленькую с чемоданом. Транспорта никакого. Вдвоем мы пешком направились на Казанский вокзал. Мы так боялись опоздать, что пришли на Казанский вокзал раньше назначенного времени сбора нашей группы. Вокзал был забит до отказа. Вокруг нас знакомые лица. В одном углу на горе чемоданов сидит Игнатий Гедройц с женой Асей, немного дальше - Григорий Ярон, Серафим Аникеев - корифеи Московского театра оперетты. Я спросил, почему они сидят здесь, а не в вагоне? "Пока не погрузят наши вещи, мы никуда не поедем", - довольно спокойно ответил мне Гедройц. Насколько они оказались мудрее нас!
Пошли с Беленькой искать своих камерников. Пробираясь сквозь толпу актеров, режиссеров, директоров, администраторов московских театров, нашли наконец и своих. У справочного окна расположились Коонен, Таиров, Богатырев, некоторые наши актеры: Чаплыгин, Лапина, Ганшин, Петровский, главный администратор Левин. А где же директор? "Вот ищем", - с какой-то странной интонацией ответил Богатырев. Но долго искать не пришлось. Вскоре выяснилось, что наш энергичный и очень оперативный директор успел заехать домой, захватить свою жену и с первым уходящим эшелоном "героически и самоотверженно" отбыл из Москвы в... известном направлении - на восток. Документы и деньги, выданные в Комитете на нужды эвакуации театра, остались у него.
На Александра Яковлевича было страшно смотреть. Он был не бледен, а черен, руки дрожали, губы были крепко сжаты. Впервые видел Таирова таким сникшим. Великолепный организатор, человек неукротимой энергии - и вдруг такая растерянность... Что делать? Уже девять часов вечера. В Комитете, конечно, никого уже нет, транспорта нет. В какое учреждение кинуться? Дожидаться завтрашнего дня, когда вот-вот Москва будет отрезана, - невозможно. Положение, мягко говоря, пиковое. Выход нашелся совершенно неожиданно. Недалеко от нас собиралась группа Московского театра Революции во главе с директором Владимиром Михайловичем Млечиным - известным театральным критиком, очень порядочным и отзывчивым человеком. Узнав о нашей беде, выразил свое сочувствие и тут же предложил ехать с ними. В их распоряжении два вагона. "Места для всех хватит", - бодро заявил Млечин. Мы, конечно, с благодарностью приняли приглашение. Видимо, два вагона на всю театральную Москву, которые придется брать с боем, - были всего лишь плодом болезненной фантазии нашего до смерти перепуганного директора. По всей вероятности, имелось в виду выделить по два вагона на каждый театр. Но, так или иначе, наших вагонов или вагона на вокзале не оказалось. Камерный театр в уменьшенном составе вселился в летнюю электричку. В холодный, продуваемый сквозняками вагон.
"Военная одиссея"
Без сигналов, в темноте, тихо-тихо, как бы стыдясь того, что происходит, поезд отошел от Москвы. Все это произошло 16 октября - в день для столицы самый критический. Заботу о переезде двух театров мужественно взял на себя В.М.Млечин. Разместились довольно свободно. У каждого свое место - жесткая скамейка. Персональное прокрустово ложе, как заметил кто-то из самых рослых - Ханов, Чаплыгин или Петровский. Долго не ложились спать, молча смотрели на мелькавшие за окном знакомые подмосковные дачные станции. Когда снова их увидим? В какие края везет этот поезд? Что нас там ждет? Разговаривать не хотелось, каждый наедине со своими думами. А у меня на душе одно - как бы скорей попасть в Свердловск. (Жена и дочь Ю.О.Хмельницкого находились в эвакуации в Свердловске. - С.К. )
Во сне увидел какую-то длинную, зимнюю, заснеженную улицу, навстречу бежит уже выросшая Маришка, в руках горящий факел. Только я к ней приблизился, она повернулась спиной, помахала факелом и побежала. Я за ней, стараюсь ее догнать, а она от меня еще быстрей. Я уже задыхаюсь от бега, кричу: "...Мариша!.. Мариша!.." - и просыпаюсь... Меня растолкал Николай Чаплыгин, так как во сне я громко кричал.
А поезд шел и шел на восток.
...На больших станциях все мы прежде всего бросались к репродукторам, за газетами к киоскам, чтобы узнать, услышать последние сообщения Совинформбюро, последние сводки из Москвы и Ленинграда. По-прежнему новости тревожные, неутешительные. Однако не было и сообщений, оправдывавших... как бы выразиться помягче... столь поспешное бегство из Москвы. Мучительно думали об этом - и не находили ответа.
Постепенно налаживался дорожный быт. Бегали на станции умываться, добывали кипяток, еду. Александр Зиновьевич Богатырев вместе с Млечиным энергично добивались, чтобы на станциях нас кормили горячей пищей - не давали покоя начальнику поезда, связывались с начальниками больших станций, заведующими буфетами, ресторанами. И нас везде ждали неизменный пшенный суп и каша. А чем дальше отъезжали от Москвы, тем легче становилось купить на привокзальных базарчиках что-то съестное. Александр Зиновьевич, очень подвижный при всей своей тучности, обаятельный, общительный, с редким чувством юмора, был в наших условиях просто незаменим. Его искренне все полюбили - он умел и успокоить, и развеять мрачное настроение, легко и даже весело найти выход из сложного положения. Алиса Георгиевна и Александр Яковлевич очень к нему привязались. В противоположность ему они в создавшейся ситуации оказались поразительно беспомощными, беззащитными.
Были проблемы и помимо бытовых. Два театра, две труппы, репертуар разный. Театр Революции везет театральное имущество. А у Камерного - ни костюмов, ни имущества, ни директора. Голые артисты на голой сцене, и еще неизвестно - на какой. Пока никаких решений нет, а поезд продолжает удаляться от Москвы. За окном - зима.
Богатырев принес Алисе Георгиевне и Александру Яковлевичу кастрюлю горячего супа из традиционного пшена. Таиров в замотанном вокруг шеи шарфе, в синем берете, в пальто, ежась от холода, обжигаясь, с удовольствием ел этот суп. Глядя на это, я вспомнил про коньяк - бутылка так и лежала нераспечатанной. Смущаясь, я предложил: "Александр Яковлевич, может быть, чтобы немного согреться и взбодриться, рюмку коньяка?" Он сказал: "Я не очень, а вот Алисе, пожалуйста, налейте, она, бедняжка, совсем продрогла". Я так был рад хоть чем-нибудь им помочь!
Вспоминаю и такой случай. Глубокая ночь, почему-то долго стоит поезд. Я поднялся, чтобы узнать что произошло. Пройдя мимо Таирова, увидел, как он ворочается на своем ложе, кутаясь в клетчатый тонковатый плед. Я вернулся к себе за пуховым одеялом и укрыл им Таирова, он отмахивался: "Что вы! Не надо, не надо, спасибо. Я совсем не замерз!" Но я настоял, он поблагодарил и дрожащей рукой потрепал мою руку. Утром, когда уже многие проснулись и занимались утренними делами, я, проходя мимо Александра Яковлевича, увидел его под тем же клетчатым пледом, а в мое теплое пуховое одеяло была укутана Алиса Георгиевна.
... 25 октября! На исходе десятый день нашей эвакуации. Приближаемся к Челябинску. Это всего несколько часов езды до Свердловска. Ждут ли меня? Конечно, ждут, какие тут могут быть сомнения - но близок локоть, да не укусишь. Время военное. Как частному лицу ехать нельзя - нужны документы. А где их взять? Я решил откровенно поговорить с Таировым. Александр Яковлевич внимательно меня выслушал, поинтересовался, как им там, в Свердловске? Все понял! Понял мое трудное положение. "Ну, конечно, Юлий, поезжайте, устраивайте ваши дела, а я в свою очередь, когда окончательно и точно будет установлено место нашего пребывания, об этом сообщу вам. Я надеюсь, вы, не задерживаясь, к нам прибудете".
Всем существом своим преданный искусству, он часто бывал наивен в делах житейских, практических. Но я-то понимал, что одного разрешения мало - нужны еще документы. А потому набрался храбрости и высказал еще одну просьбу: поскольку директора, увы, у нас нет, не можете ли вы, Александр Яковлевич, выдать мне такую официальную бумажку в том, что я в командировке или в отпуске для устройства своей семьи?
- К сожалению, - ответил он, - никак не могу. У меня нет не только печати, но даже бланка. Я попробую поговорить с Млечиным, может быть, он это сделает. И вот меня пригласили к Млечину. Владимир Михайлович был, как всегда, приветлив: "Мне Александр Яковлевич говорил о вашей просьбе. Конечно, какие могут быть сомнения. Такой документ я вам отпечатаю, только не на бланке. Их у меня сейчас нет, они упакованы в ящике и находятся в багаже. Но печать и пишущая машинка всегда со мной". Тут же составил текст документа, который должен мне помочь на законном основании перебираться из города в город. Владимир Михайлович его отпечатал на листке из школьной арифметической тетради, сам подписал, дал подписать Левину, поставил печать и вручил мне. Этот уникальный документ, свидетель тех лет, где Млечин фигурирует как директор двух театров, а я как актер этих театров, у меня сохранился.
|