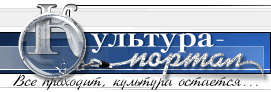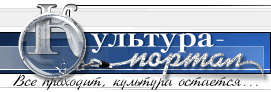|
 |
| Сцена из спектакля "Знает ли жизнь английская королева?" |
В первый календарный день зимы в Москве стартовали сразу два фестиваля - ЦЕХ и NET. Один представляет российские театры танца, другой - Новый европейский театр (New European Theatre), по преимуществу драматический. Тем не менее, открылся NET моноспектаклем французского хореографа и танцовщика Жозефа Наджа "Дневник неизвестного". А ЦЕХ - "Сеансом одновременной игры" одного из лидеров и подвижников отечественного contemporary dance Саши Пепеляева, чьей инициативе и личным усилиям фестиваль (в значительной степени) обязан своим существованием сам.
"Полуночники" - первая из показанных в России постановок Наджа (как теперь говорят, этнического венгра, родившегося в Югославии) просто заворожила столичного зрителя. Парадоксально, но от этого поставленного по мотивам Кафки произведения исходили удивительный внутренний свет и душевная теплота. Мир кафкианских метаморфоз отражался здесь в зыбкой, ускользающей атмосфере существующего на грани сна и реальности спектакля. Надж полюбился нежным отношением к своим странным, словно загипнотизированным героям, обитающим на пограничной территории - фантазии и действительности, безумия и нормы, истории и вымысла, конкретной пьесы и пространства всей мировой драматургии... Его называют хореографом своей памяти. Подобно другому своему соотечественнику, кинорежиссеру Эмиру Кустурице, он не устает инсценировать свое прошлое.
 |
| Ж.Надж в сцене из спектакля "Дневник неизвестного" |
По признанию хореографа, поводом к постановке "Дневника неизвестного" послужили воспоминания о трех товарищах юности времен учебы в Будапештском университете. Двое из них покончили с собой, третий, сойдя с ума, пытался уничтожить картину в каком-то музее. Надж не идентифицирует себя ни с одним из них. Его герой лишь "приглядывается" к другим судьбам, только пробует примерить на себя способы чужого существования, ведущие к суициду - петле, топору, другим возможностям свести счеты с жизнью. Его тело то с готовностью откликается на координаты нового пластического образа, то категорически восстает против совершаемого над ним насилия, сбрасывая с себя чужеродную "мучительную" пластику, как строптивая лошадь ездока.
Танцевальные спектакли Жозефа Наджа "собирают" всю театральную Москву. Если говорить о зрителях ЦЕХа, то "узок круг этих революционеров": в зале - в основном люди, интересующиеся танцем модерн. На ТВ существуют передачи - "Эпизоды" и "Острова". Так вот коллективы современного танца в России - даже не острова, а островки, а их история - только частные эпизоды культурной жизни страны, из чего и произрастают все проблемы отечественного contemporary dancе.
Один из лучших современных хореографов Ольга Пона в рамках ЦЕХа показала спектакль "Знает ли жизнь английская королева?". Название подсказано "Энциклопедией русской души" Виктора Ерофеева, утверждающей, что вышеупомянутая особа как раз жизни-то и не знает. А жизнь в спектакле - жестокая борьба за выживание, за место на высоком сооружении, напоминающем нары. Отношения между партнерами - безлично агрессивны. В отличие от иных постановок Пона, где женщина находилась в вечном ожидании мужчины, здесь представители обоих полов выступают на равных. Мужской танец энергичен, груб, спортивен, а сами крепкие, широкоплечие танцовщики слегка напоминают братков. Женщины не так брутальны, но не менее напористы и активны. Танцовщики и танцовщицы существуют автономно. Сталкиваясь, как партнеры, они остаются безразличными друг к другу, с блеском справляясь с изобретательными, непредсказуемыми движениями, сочиненными хореографом. Содержанием спектакля (что необычно для эмоционально заразительной Ольги) становится сама танцевальная техника, которая свела на "нет" и привычное провинциальное очарование героев хореографа, выступившей в данной работе в непривычном, новом качестве перфекционистки.
Екатеринбургские "Киплинги" каждой своей последующей работой делают шаг вперед. Их последняя работа "Не Жизель" (идея и постановка Натальи Левченко) - веселый и изящный спектакль, в котором четыре девушки под музыку наиболее растиражированных музыкальных тем "Кармен-сюиты" раскрывают "кухню" красоты современных барышень (на манер соперничающей с американской миллионершей Эллочки-людоедки), вступивших в поединок с фотомоделями и героинями сериалов про богатых. В спектаклях есть и диалоги, сводящиеся к вопросам: "что надеть?" и "как похудеть?". Дамский туалет, всевозможные манипуляции и косметические процедуры, включая хирургические операции по улучшению внешности, находят здесь остроумное и органичное воплощение в движении и танце.
Из числа хорошо знакомых коллективов "качественно" выступили петербургские "Игуан" и "Канон Данс". Первые в своем сорокаминутном спектакле "Noise & Silense" исследуют связь между компьютерными технологиями и движением, способным по-разному выражать один и тот же звук. Вторые увлеченно "играют в игры" сами с собой и с партнерами (в спектакле три танцовщика), обрисовывают друг друга и "себя любимых" цветными мелками. В общем, резвятся от души, назвав это действо: "Игра в декаданс". Впрочем, названия спектаклей к содержанию зачастую никакого отношения не имеют. Например, так и осталось неясным: куда "Пропала зима" в забавном спектакле с данным названием в исполнении пяти танцовщиц-клоунесс гомельского "Квадро" (одна из них - основательница и хореограф труппы Инна Асламова).
В "Сеансе одновременной игры" Саша Пепеляев - любитель поиграть смыслами - не поступился своими творческими привычками. Его постмодернистское, порой схоластичное пристрастие к различного рода играм здесь находит живое "театральное" выражение. "Сеанс одновременной игры", по замыслу автора, - момент одновременного существования на сцене героев разных произведений, чье "выживание" зависит от скорости реакций и умения взять нить действия в свои руки. Шесть персонажей, шесть танцоров находятся в поисках своей пьесы. Они объединяются в дуэты, трио. Исполняют соло. Танцуют все вместе. Перехватывают друг у друга инициативу. Забавляются со своей тенью за экраном, которая оказывается вовсе не тенью, а загадочным силуэтом, живущим самостоятельной жизнью. Будучи подвергнут причудливым метаморфозам, он потом бесследно исчезает, уйдя, возможно, в еще не сочиненную пьесу. Новым персонажам нет места в старом спектакле, где звучат отголоски прокофьевских "Ромео и Джульетты" и обрывки шекспировских монологов, а в оставшемся пространстве беспрестанно "перемешиваются" танец, тени и видеоряд.
"Миксы" на территории современного танца - вещь обыденная: образуются и распадаются коллективы, артисты объединяются по двое, по трое, ставят друг для друга и для самих себя... Для таких работ ЦЕХ предоставил Малую сцену, где выступили с соло опытные "ПО.В.С.ТАНЦЫ" Саша Конникова, Альберт Альберт, Тарас Бурнашев, работающая в России француженка Эммануэль Горда и танцовщица Кинетического театра Саши Пепеляева Дарья Бузовкина. Помимо соло, она вместе с Бурнашевым показала спектакль-дуэт "Снег", работу вполне скромную... не разденься партнер аж посередине спектакля догола и не протанцуй в таком вот неприглядном виде до самого финала. Правда, Бузовкиной в четко сработанном танго почти всегда удается "прикрыть своим телом" самые интимные места Бурнашева. Разгадать сакральный смысл этого проявления эксгибиционизма не так-то просто. Можно лишь предположить, что партнер, поначалу облаченный во все белое и всячески "окутывавший" партнершу, олицетворял снег. А стриптиз, очевидно, означал, что снег растаял. Вот такая аллегория!
И еще один дуэт на музыку Глюка "прозвучал" в малой программе - "Не сон" в постановке Лики Шевченко и Романа Андрейкина, одного из лучших наших танцовщиков. Он вместе с Ульяной Бачерниковой и исполнил этот экспрессионистски яркий, выразительный, нервный, как крик, танец на вечный сюжет - уходящий мужчина и пытающаяся удержать его женщина.
Резюме: резко выросло мастерство практически всех участников. Иные коллективы, грешившие непрофессионализмом, сегодня работают на хорошем европейском уровне. Спектакли обрели внятность и сдержанное спокойствие, их язык - большую простоту и сложность одновременно. Ушли в прошлое неофитская экстремальность и зацикленность на стремлении удивить, но вместе с ними - и живая непосредственность, свойственная дилетантам. Увы.
|